Supernovum.ru
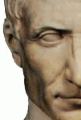 |
Это архив форумов. Работающие форумы расположены вот по этой ссылке
Политзанятия (архив)
Вопросы актуальной политики и экономики, смежные исторические темы.
|
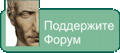
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Салон•Кулуары•Полигон•Техфорум•Публикации•Архив•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
Сравнительная психодинамика кризисов XX в. в России Дата: 08, September, 2010 15:39 В кои то веки и лит сподобился скопипастить разумный текст.Бывает. Приведу текст со схожими представлениями от профессионала. В изучении российской истории это другая парадигма в смысле Куна. Булдаков В.П. Сравнительная психодинамика кризисов XX в. в России Представление о кризисном ритме российской истории, похоже, окончательно утвердилось в отечественной литературе — ныне отрицать его берутся разве что занудливые эволюционисты или тупые бюрократы. Однако этот феномен понимается по¬разному: все началось с желания втиснуть цикличность русской истории в парадигму реформ и контрреформ , а потому до сих пор заметен соблазн подвести кризис под понятие «качественного скачка», обеспечивающего некое поступательное движение . Разумеется, ритмичность истории, как и всего сущего, не является прерогативой России. В данном случае имеются в виду системные кризисы или смуты . Некоторые исследователи именуют их «катастрофами русской истории», ознаменовавшимися последовательной гибелью киевской, московской, романовской и советской государственности , другие, напротив, объявляют их «локомотивами» необычайно «успешной» русской истории . Строго говоря, и те, и другие оценки принадлежат скорее к области исторической рефлексии, нежели к конкретноаналитической сфере. Попытаемся отойти от эмоциональной предвзятости, доктринальных иллюзий и идейно¬политических предрассудков и исходить из того, что революционный кризис начала XX в. по своему психосоциальному наполнению вполне изоморфен кризису конца столетия. В том и другом случае это связано, прежде всего, с кризисом представлений об «идеальной» (имперски¬патерналистской) власти. Некоторые исследователи отмечают, что «синхронная историческая реконструкция» прошлых системных российских кризисов способна выявить «реактуализацию некоторых элементов традиционного общества, которые обычно считаются поглощенными последовательными волнами модернизации» . Психодинамику кризисов трудно уловить на позитивистской источниковой базе. Поэтому приходится ориентироваться на личные свидетельства людей, склонных к аффектированному восприятию действительности, учитывая, что именно оно определяет культурогенное движение социального хаоса. Трудно представить себе чтолибо более нелепое и, вместе с тем, самонадеянное, чем привычку описывать российские кризисы в терминах «правильной» европейской политики. Начало этому крайне пагубному в познавательном смысле обычаю было положено «политиками¬теоретиками», быстро оказавшимися не у дел после падения самодержавия; их «опыт» со временем воспроизвели «историки КПСС». Как ни парадоксально, современные «европеизированные» российские элиты восприняли эту традицию, несколько разукрасив ее формальным использованием новейшей социологической терминологии. Между тем представление об Октябрьской революции, как новейшем пришествии Смутного времени, было характерно для целого ряда авторов прошлого. Другое дело, они не могли предложить исследования ¬внутренней динамики кризиса российской сложноорганизованной системы, а равно его долговременных последствий. Как результат, на поприще политической интерпретации российских кризисов до сих пор кормятся всевозможные «политологи», не имеющие представления об их внутреннем наполнении. «Политика» времен кризиса — всего лишь ложный продукт хаотического состояния исследовательской мысли. В системном кризисе империи доминируют совершенно иные уровни его протекания: этический, идеологический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный — проиллюстрировать их действие довольно несложно. В действительности, собственно «политика», связанная преимущественно с деятельностью элит, занимает в этом цикле ничтожное место — стихийное движение масс, ожидавших от революции «чуда», опрокидывает их усилия по стабилизации ситуации. Что же задает им исходный импульс, который со временем приводит в движение различные социальные слои и вызывает радикальные идейные и стратификационные подвижки? Ответ необычайно прост: сила отторжения от «одряхлевшей» системы, не способной ни к самосохранению, ни к защите своих подданных. Но куда более сложен обратный или попятный процесс — проследить за регенерацией того, что кажется исторически отжившим. Отличие системного кризиса политической революции заключается именно в том, что он захватывает все ментальное и психосоциальное пространство, подавляя «цивилизованные» рациональные начала и активизируя рецессивные элементы общества. И если последние оказываются в большинстве (а в традиционных системах так и случается), то в ходе кризиса любая политическая революция, а равно и утопическое реформаторство, системно не соответствующие культурной организации общества, после недолгого стихийного торжества приводят к прямо противоположному результату: нарушенное равновесие переутверждается через охлократическое отрицание инновации. Системный кризис движется традиционалистскими иллюзиями, с их истощением получает преобладание вера в «понятную» власть. Накануне Февраля современники, словно сговорившись, писали, что «революция висела в воздухе» . «... Я росла в России в те годы, когда сомнений, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было..., вспоминала Н. Н. Берберова. — Протест был нашим воздухом и нашим реальным чувством» . Это ощущение захватило даже тех, кого принято было считать идейным оплотом режима — накануне Февраля их шокировало поведение царской четы. Показательный пример: после падения самодержавия енисейский епископ Никон вступил в кадетскую партию, произнеся на собрании ее членов речь, в которой заявил: «В то время, когда наши герои проливали свою драгоценную кровь за Отечество... Ирод упивался вином, а Иродиана бесновалась со своим Распутиным, Протопоповым и другими пресмыкателями и блудниками» . Инерция отторжения от старого захватила едва ли не представителей всех слоев. «Все, или почти все, было... ново и радостно, потому что рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах у всего мира...», — так описывала послефевральские впечатления Н. Н. Берберова . Наиболее впечатлительные люди были убеждены, что все проблемы решатся сами собой: поэт Андрей Белый искренне спешил поздравить читателя «С новой эрой!» . К голосу немногих скептиков никто не хотел прислушиваться. Это и погубило тогдашних политиков. «Люди, претендовавшие на ¬всестороннее знакомство со всемирной историей и готовившиеся занять министерские посты, разделяли всеобщее опьянение, — иронизировало «Новое время». — Они наивно думали, что Дума... переменит движение жизни и... сразу сделает утопическое государство, в коем будут осуществлены и абсолютные политические свободы, и безусловное социальное равенство» . Однако чем сильнее иллюзии, тем быстрее они рассеиваются. Несостоявшиеся надежды порождают паранойю, особенно в традиционалистских низах. «Старые бабы пророчествуют пришествие антихриста и анчутки беспятого, свержение царств и бедствия народные» , — фиксировались такие «странные» слухи, которым скоро суждено было материализоваться. Недолгое правление Временного правительства было отмечено чередой кризисов, словно символизировавших раскол между политикой и надеждами на «светлое будущее». Именно на этой основе и вырос большевизм. Характерно, что люди самых различных сословий стали больше опасаться «своих», а не «чужих» — генераловусмирителей, грозящих отобрать «завоевания Февраля»; «вредителей» и «буржуев» на производстве, могущих оставить без работы; чиновников¬крючкотворов, способных поставить под сомнение «черный передел» в деревне; всевозможных сепаратистов, добивающихся неведомо чего и уже потому несущих в себе угрозу. Над всем этим довлела усталость масс от «бессмысленной» войны. В конечном счете, все революции разочаровывают. Лидеры страдают от сознания перерождения революционного проекта, массы — от ухудшения материального положения, культурные слои — от ужаса неизвестного. На этой волне и поднялся большевизм, с одной стороны, опиравшийся на социально сокрушительные интеллигентские утопии, с другой — на народную веру в справедливость и, главное, ненависть к тем, кто якобы стоит на ее пути. Строго говоря, политики «проспали» большевизм — сыграло свою роль убеждение в «непреложности» законов истории, в которых «узурпаторам народного волеизъявления» вроде бы не находилось места. Конечно, некоторые улавливали ход событий, заявляя, что действия «петроградских факиров» приведут «через анархию и поножовщину к самодержавию» . Действительно, в столице и ряде местностей большевистский переворот сопровождали многодневные погромы винных складов, ужасающие пьяные оргии, погромы и пожары. Однако даже среди представителей образованных классов большевики находили неожиданных «сторонников». Мотивация прихода к большевикам одного офицера после Октября шла такова: «...Раз власть и командование перешло к ним (большевикам. — В. Б.), как же не подчиниться? Ведь нужно же, чтобы ктонибудь командовал солдатами...» . В развитии всякой революции наступает момент, когда разъяренная людская масса «выбирает» своего диктатора. Строго говоря, в 1917 г. Ленин не давал ответа на «главный» вопрос «Что делать?» — за него, по признанию его противников, отвечала сама масса, понимающая его призывы в предельно упрощенном виде . Хаос всегда провоцирует диктатуру, причем находятся люди, способные опоэтизировать происходящее. В 1918 г. О. Мандельштам писал: «Новое общество держится солидарностью и ритмом, солидарность — согласие в цели. Необходимо еще согласие в действии. Согласие в действии само по себе уже есть ритм... Солидарность и ритмичность — это количество и качество социальной энергии» . Разумеется, такие мысли приходили в голову единицам. Но само их появление симптоматично. Н. Мандельштам позднее признавала: «Раздавленные системой, в построении которой так или иначе участвовал каждый из нас, мы оказались совершенно негодными даже на пассивное сопротивление» . Течение кризиса в традиционалистском обществе всегда связано с обнажением агрессивно¬депрессивного синдрома, порожденного старым строем. После гражданской войны социальная энергетика масс окончательно приобретала интровертный характер, что можно считать знаком возвращения к автаркистско¬диктаторской форме существования России. Революции не хватило творческих сил для преодоления социального хаоса. Вскоре после победы большевиков один из былых претендентов на роль «властителя дум» В. В. Розанов, известный своей болезненной сервильностью, возопил: «Неужели ни один человек в России не захочет и не сможет меня спасти? ...Научите, спасите, осветите путь жизни. Воображение мое еще полно мыслей, ...но я — ничего не умею... Крепостное право я всегда рассматривал как естественное и не унизительное положение для таких лиц и субъектов, как я... Мы можем стать только за спину другого, сказав: «веди, защити, сохрани. Мы будем тебе покорны во всем...». В ноябре 1922 г. К. Чуковский записывал в своем дневнике: «Все живут зоологией и физиологией... Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч.» В 1926 г. ИвановРазумник писал А. Белому: «Революция... умерла потому только, что в каждом из нас мертвый схватил живого!» . Цикл революционной смуты замкнулся. Если ты хочешь понять что-либо,узнай,как оно возникло.  : Сербедар из Себзевара : Сербедар из Себзевара
|
Отв: Сравнительная психодинамика кризисов XX в. в России Дата: 08, September, 2010 15:41 Современного россиянина довольно трудно убедить в том, что в конце XX в. Россия пережила аналогичный системный кризис, хотя современность просто кишела «намеками Клио». Считается, что страна находилась на «иной стадии» развития, массы руководствовались куда более здравыми ценностями, решались качественно иные «исторические» задачи, «демократический» потенциал общества неизмеримо возрос. Разумеется, главная аргументация сводилась к тому, что теперь утверждалось принципиально иное отношение к собственности. Между тем отношения собственности были вторичными ¬применительно к желанию ее тотального передела. Поэтому кризис прошел аналогичный 1917¬ му году цикл надежд и разочарований. Сходство определялось социальноантропологическим фактором: это был вновь кризис традиционного общества. Советская система была глубоко архаичной — идеократизированный государственный «социализм» с помощью механизма уравнительного распределения утвердил в массе населения черты иждивенческого конформизма, характерного для догражданского общества. «Избыточный» государственный патернализм всегда чреват инфантилизацией социальной среды, более того — ее креативной дисфункциональностью. Отсюда, с одной стороны, преобладание воображаемого над реальностью при выборе идейно¬политических ориентиров, с другой — накопление в обществе садомазохистских интенций. Эти факторы вновь взорвали систему при ее тотальном одряхлении. Ее организационный коллапс был связан с крахом «распределительной экономики», чудовищно деформированной и отягощенной военно¬промышленным комплексом. Неспособность центра накормить регионы породило представление, что если бы не «номенклатура», люди жили бы «как при коммунизме». Именно в связи с этим по всем этажам социальной пирамиды произошел лавинообразный рост так называемых малых возмущений — состоялось воспетое Лениным соединение беспомощности «верхов» и всеобъемлющего недовольства «низов». Уже во времена «развитого социализма» советские люди уверовали в безнравственность «слуг народа» — реактуализировалась архаичная дихотомия «должного¬сущего», укорененная в их умах . Глубину разложения советского общества символизировало положение дел в mass media, пораженных «двоемыслием». Обычный газетчик, согласно тонкому наблюдению С. Довлатова, искренне говорил не то, что думал . Информационные связи стали работать на разрушение системы — ¬антисоветские анекдоты пересказывались генсекам. Не удивительно, что подобно большевикам новейшие либералы стали практиковать обличительство на религиозный манер. В конце перестройки заявлялось, что «революция не имеет никаких моральных оправданий» . Новейшие реформаторы категорически не понимали русской истории: не случайно их ложным символом стал Петр I — неуемный недоросль, поднявший Россию на дыбы отнюдь не ради западнической демократии, а потому вызывавший неподдельное восхищение Сталина. Некоторые авторы считают, что «антикоммунистическая революция в России существенно отличалась от коммунистической» , ссылаясь на то, что большинство нынешней элиты — выходцы из советской номенклатуры. На деле разница не столь велика: в свое время большевистские канцелярии заполнили «бывшие» (других чиновников просто не находилось), от которых в 1930 е годы власть решительно избавилась. В том и другом случае наблюдался известный феномен циркуляции элит, характерный для всех русских смут. Советский Союз рухнул по той же причине, в силу которой вырвавшееся наружу внутрисословное и, особенно внутриобщинное (внутрисоциумное в целом) напряжение взорвало императорскую Россию — «повзрослевшим» людям стало тесно в тисках обюрокраченной «отеческой» государственности, не способной к поддержанию внутриимперского равновесия и защите подданных от угрозы извне. Патернализм всегда стимулирует истероидный инфантилизм. И это удается тем легче, что в сознании русского человека власть отождествляется с царем, а государство — с чиновниками. Если царь предстанет существом такого же порядка, что и чиновник, то народ может взбунтоваться и против него. Как бы то ни было, вялотекущая революция 1991 г. произошла без революционеров, но зато при избытке квазиреволюционеров и псевдореволюционеров. Известен опыт классификации тех и ¬других: «догматики», «любители», «реформаторы», «паяцы», «болтуны» . Думский парламентаризм 1990 х годов не случайно напоминал о бессилии старой Государственной думы. При этом степень развращенности современных политиков, фетишизирующих собственность, оказалась несравненно выше. Исполнительная власть от этого выиграла — на этом фоне ей куда проще имитировать «чистоту рук». Так в очередной раз подтверждается назначение российской «политики» — устраивать шумные парламентские пляски, маскирующие «властную вертикаль» неизживаемого авторитаризма. Возврат к старому вновь оказался связан с ксенофобией — этого неизбежного производного автаркистского существования. «...Русские — обидчивые подражатели, охваченные парадоксальной думой о том, что они изобрели все раньше и лучше других, но их на ярмарке идей обобрали евреи и иностранцы» — не без оснований заявил известный литературовед. Этот момент пытается использовать власть, заговорившая о «суверенной демократии». Трудно было ожидать другого от идеологов, «поумневших» в застойное время — их не случайно называют людьми, вышедшими не из гоголевской, а марксистсколенинской шинели, сшитой на фабрике «Большевичка» . Возникает вопрос: можно ли выявить качественное различие между кризисами начала XX в. и его конца? Такое различие действительно существует. Если события начала века произошли в условиях резкого «омоложения» российского населения, что в условиях мировой войны вызвало его особую агрессивность, то сегодня мы наблюдаем нечто противоположное. Нынешний кризис неслучайно носит «вялотекущий» характер. И потому есть все основания говорить о том, что события конца столетия напоминают фарс, поставленный самой историей с помощью людей, отчужденных от нее и неспособных извлечь уроки из прошлого. Если ты хочешь понять что-либо,узнай,как оно возникло.  : Сербедар из Себзевара : Сербедар из Себзевара
|
Этот форум в режиме 'только для чтения'.
В онлайне
Гости: 70